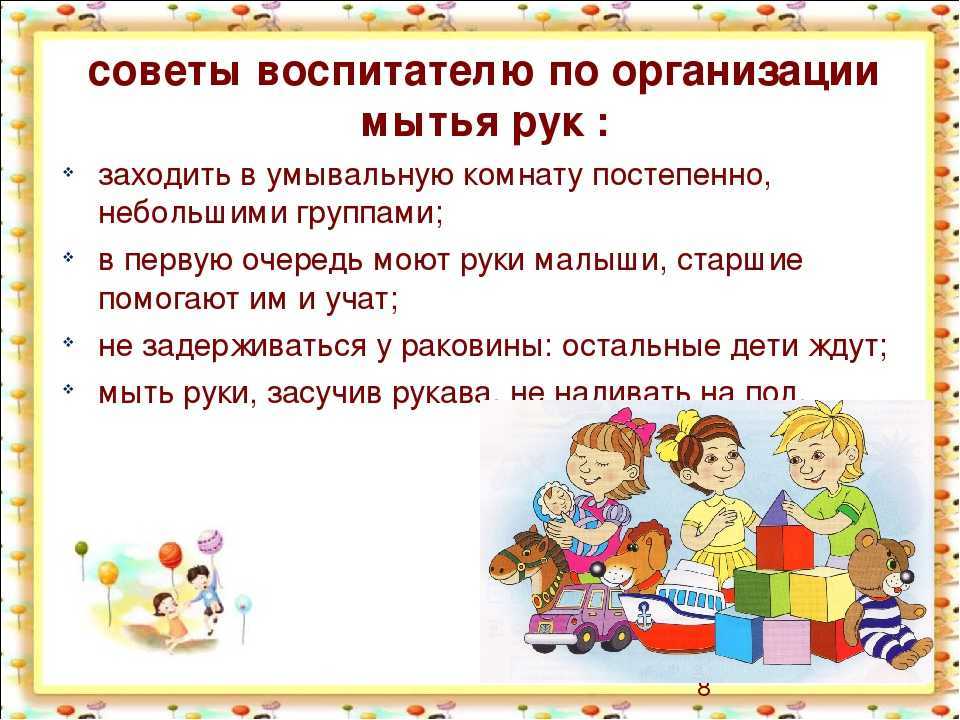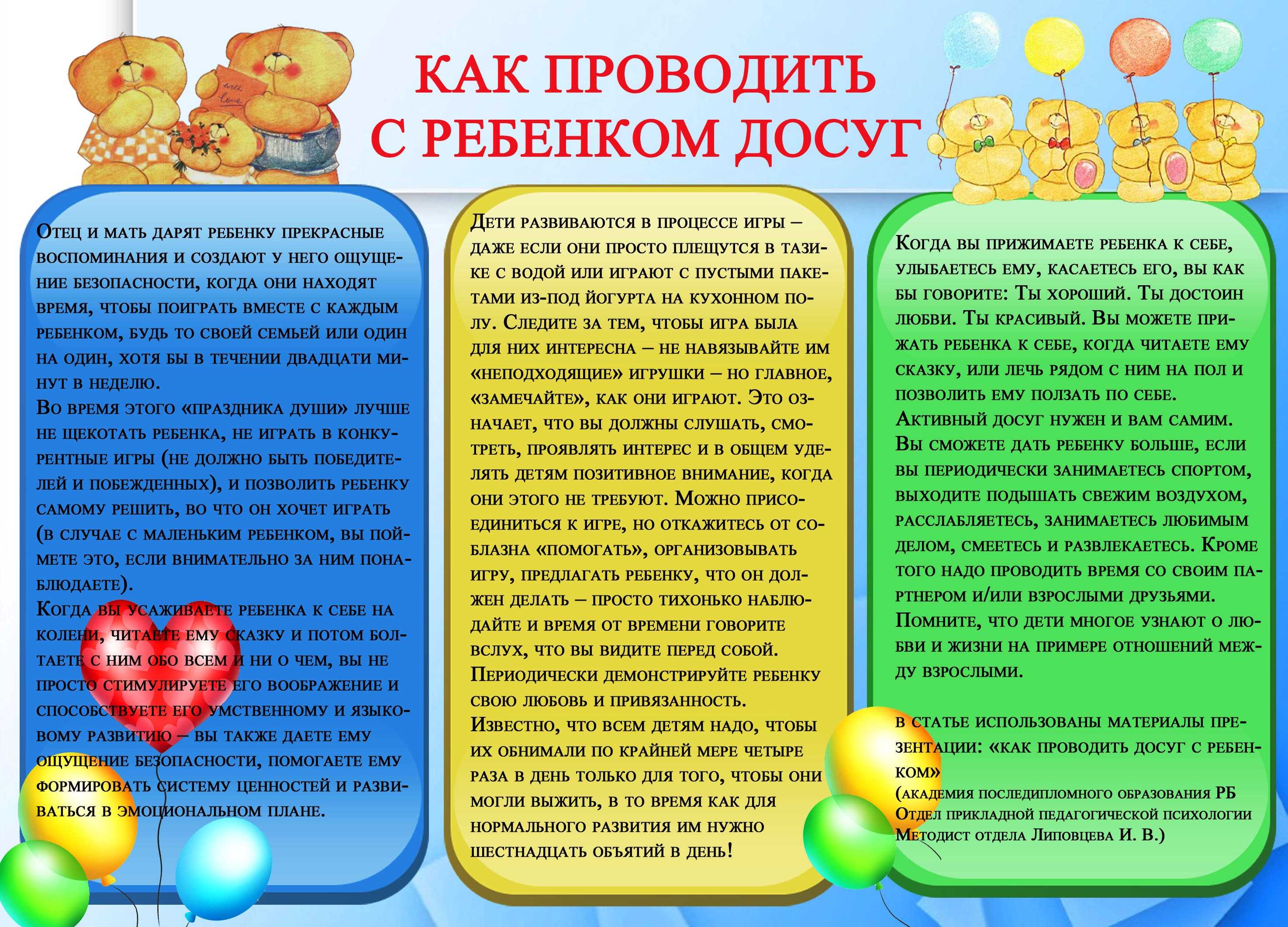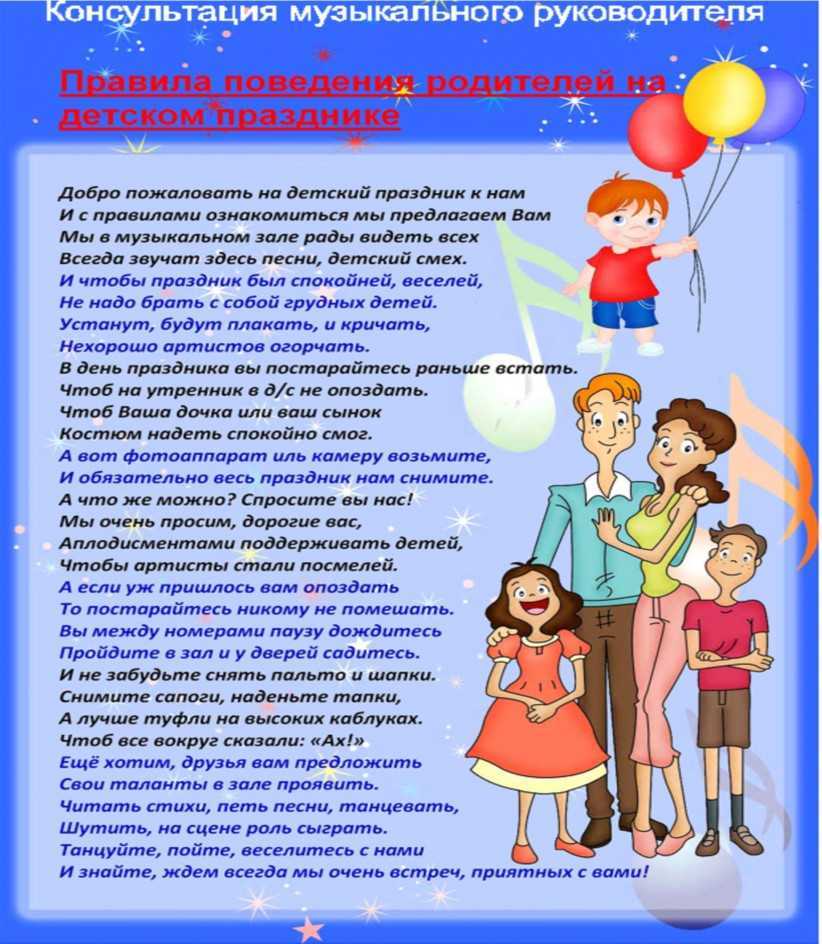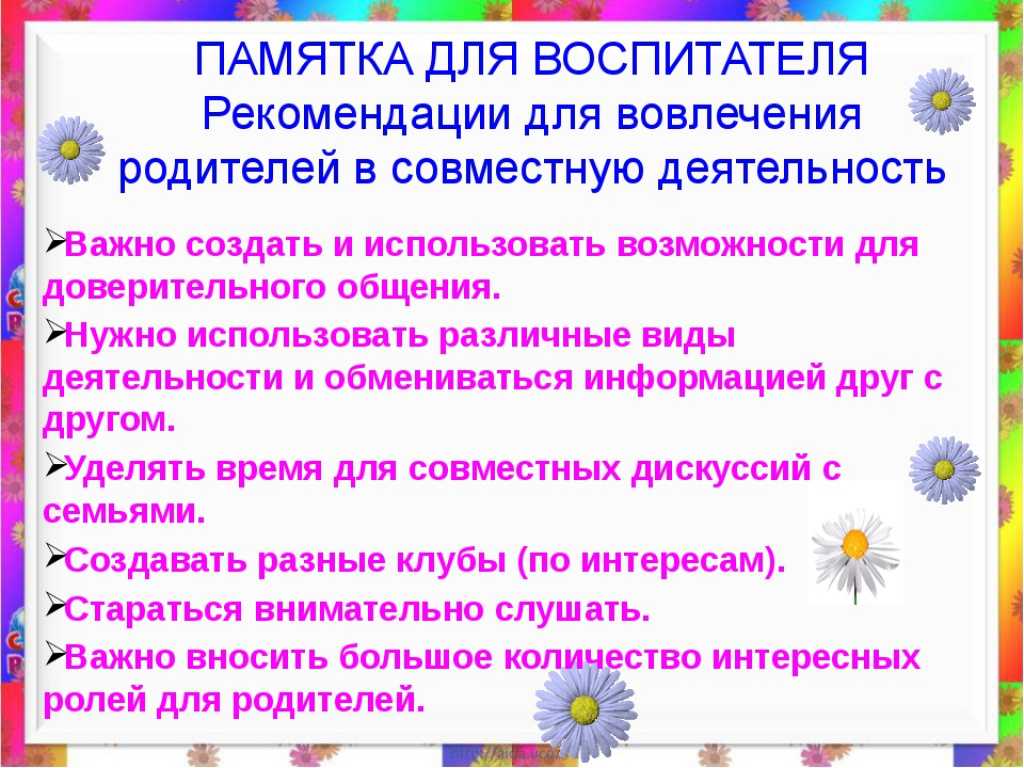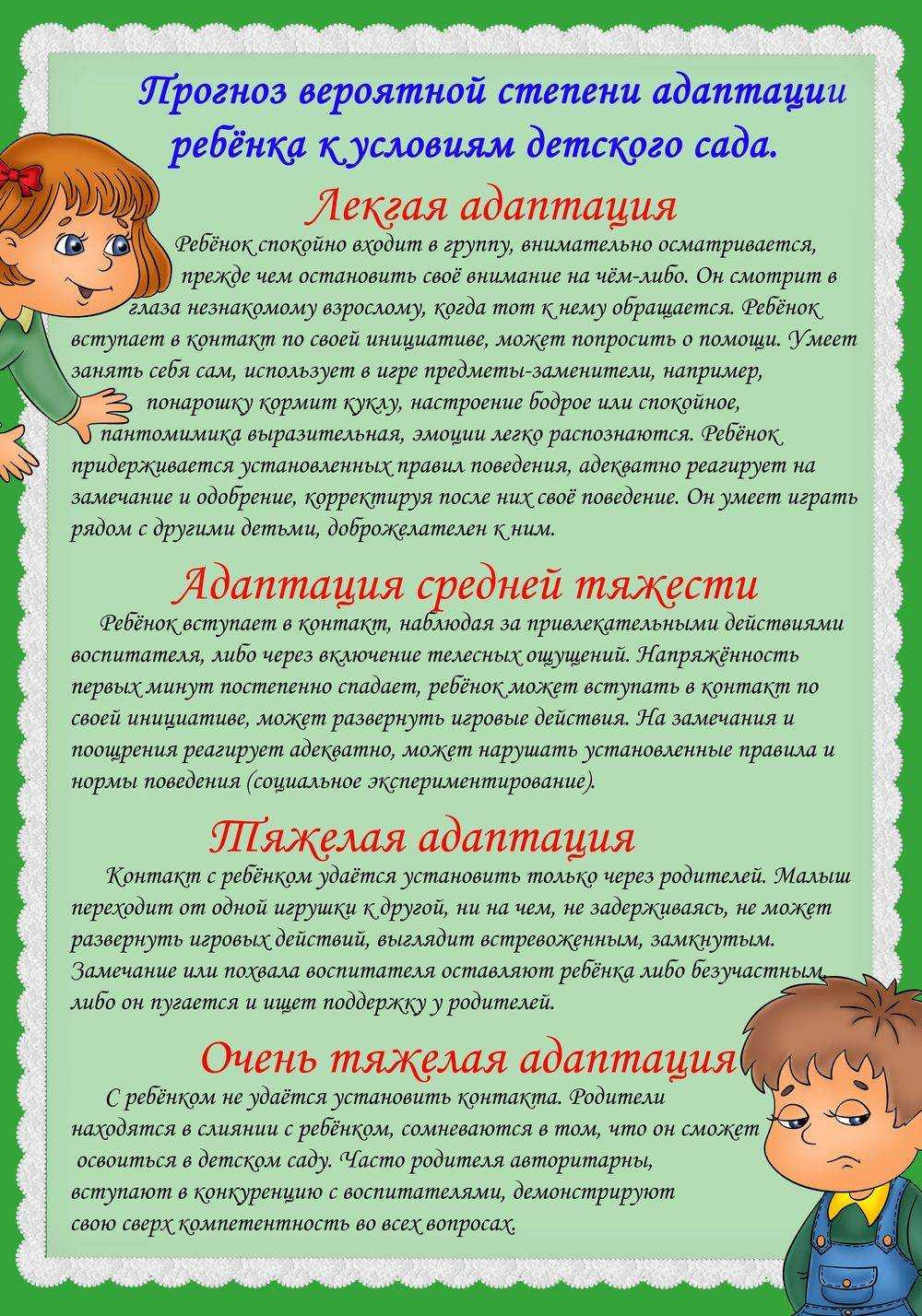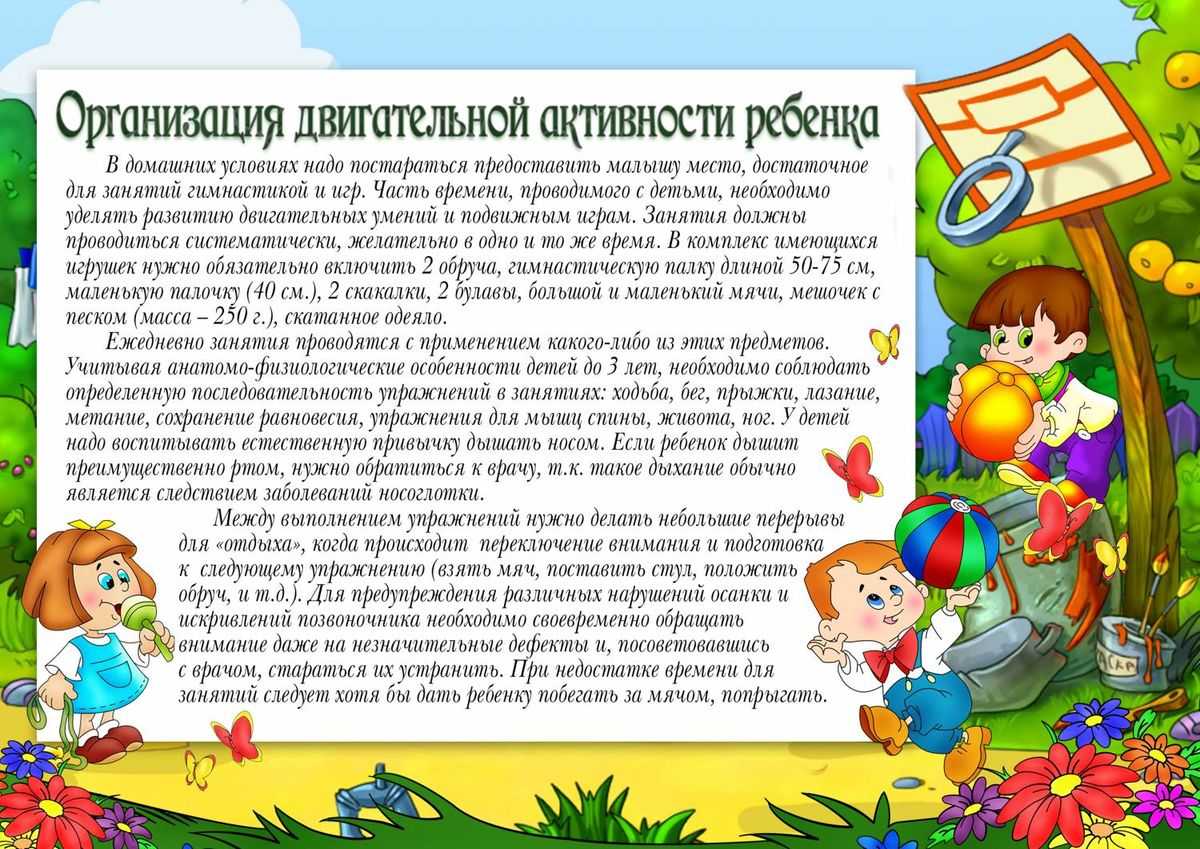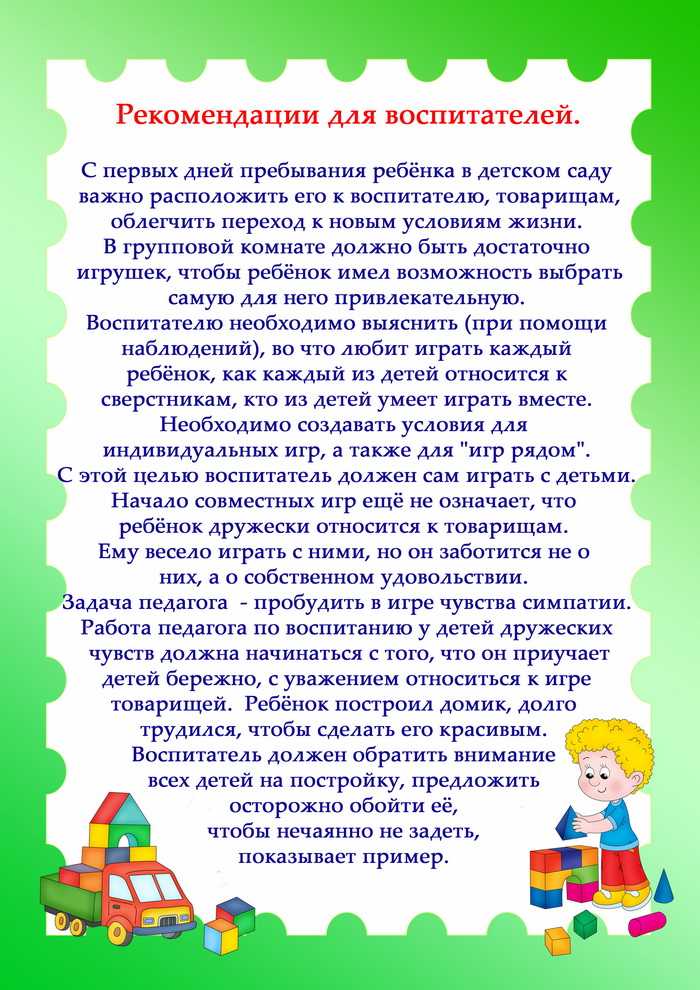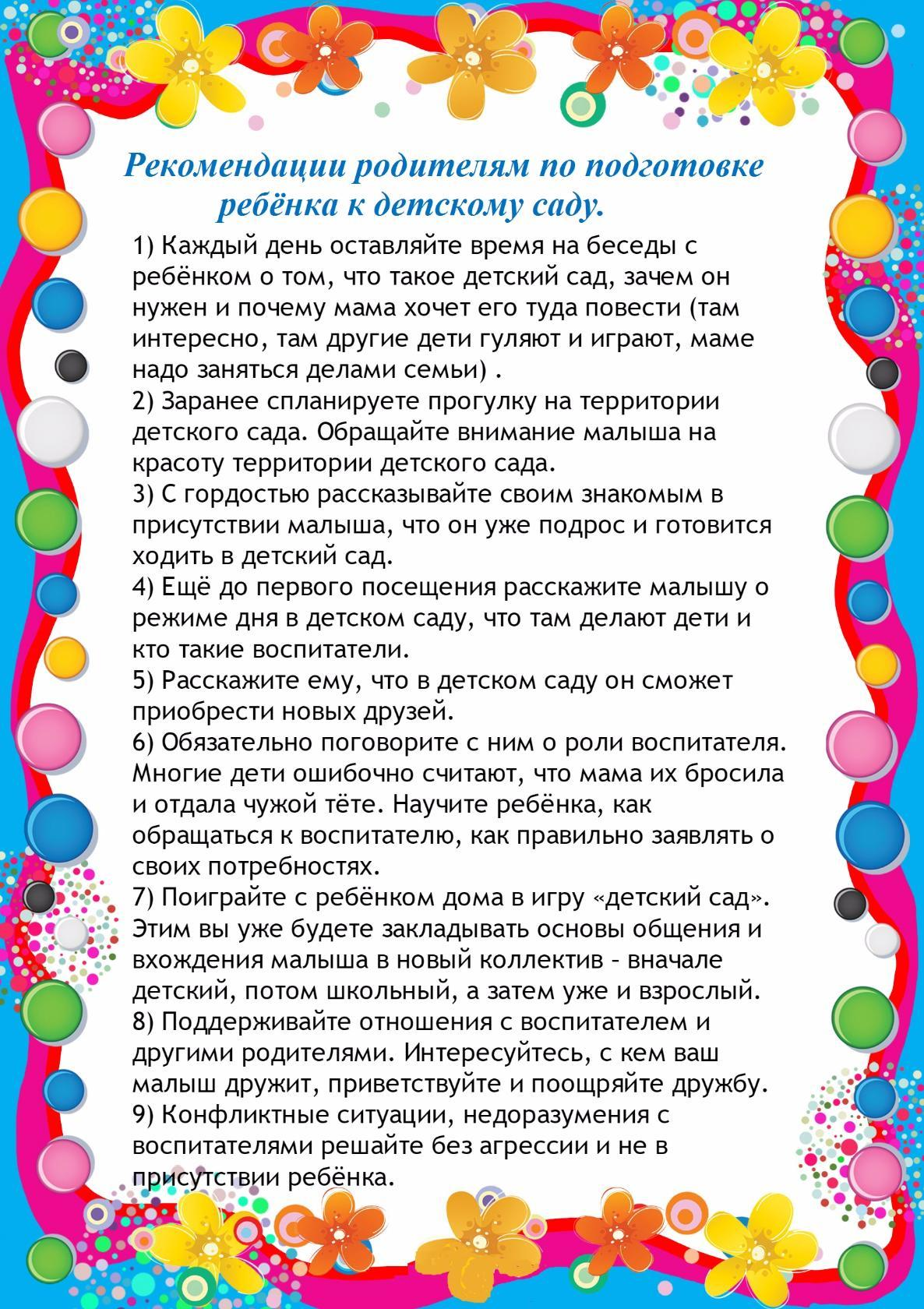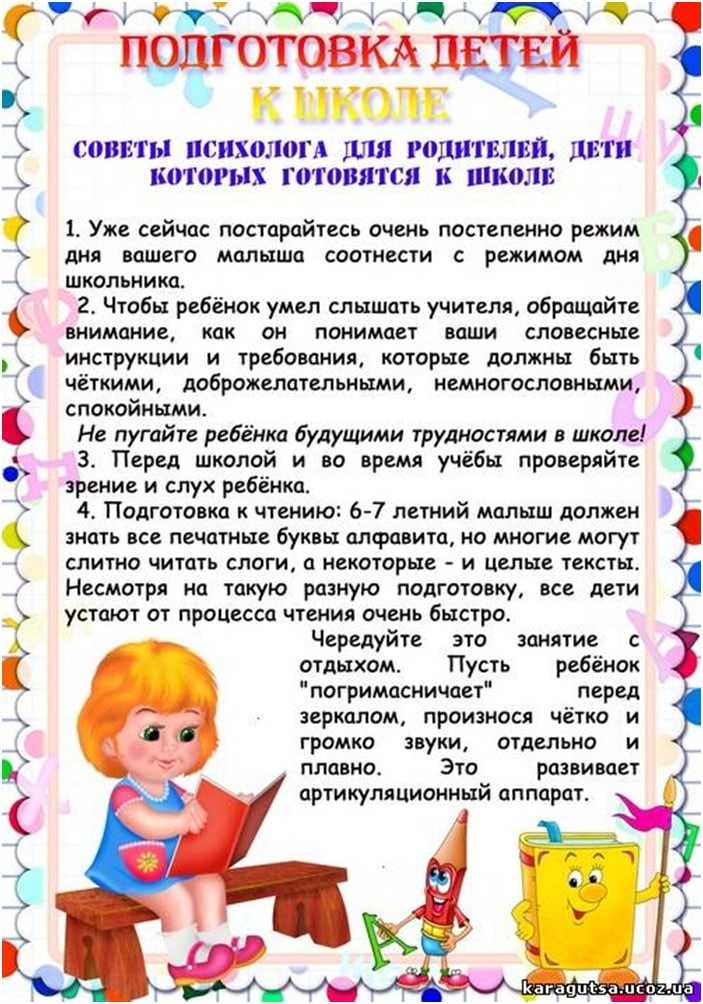Похищение Джеймса Балджера
Дениз и Ральф Балджеры обожали Джеймса. Их первая дочь умерла в детстве от тяжелой болезни еще до появления мальчика на свет, и потому сын стал для супругов утешением, спасением и горячо любимым ребенком. Мальчик рос веселым и активным, и иногда его непоседливый характер доставлял родителям неудобства.
12 февраля 1993 года Дениз Балджер отправилась с сыном в торговый центр за покупками. Трехлетний малыш в очередной раз расшалился: в магазине детской одежды мать только и занималась тем, что ловила Джеймса, бегающего между вешалками, и извинялась перед продавцами за вещи, которые он уронил.
Когда Дениз с Джеймсом дошли до мясной лавки, мать велела сыну подождать его возле двери. Женщина была уверена: за минуту ничего страшного не случится, ведь ей надо просто подойти к прилавку и расплатиться за уже собранный пакет. Но всё пошло не по плану: мясник перепутал заказы, и женщина задержалась. Когда она вышла, то увидела, что мальчик пропал.
За полчаса Дениз обыскала торговый центр и, не обнаружив сына, позвонила в полицию. Вместе с приехавшими стражами порядка она посмотрела видеозаписи с камер торгового центра. На одной из них было видно, как Джеймс уходит вместе с двумя мальчиками лет 10–11. Полицейские сразу расслабились, а один из них попытался успокоить паникующую женщину: «Не переживайте! Ну что может случиться? Это же просто дети. Наиграются и вернутся».
Неполиткорректный Беовульф
«Первое, что я помню, как я оторвал руку чудовищу. Я притворялся спящим, пока чудовище подкрадывалось и пожирало другого воина, а когда оно приблизилось, чтобы схватить меня, я вскочил, сжал его тяжелую руку стальной хваткой и держал все время, пока мы сражались в зале, снося в ярости деревянные стены, а потом зверь понял, что не освободится, и, оторвав себе лапу, бежал, истекая кровью и визжа, смертельно раненный, в свое болотное логово. Подходящий подвиг для пятилетнего ребенка.»
Этими словами начинается книга американского литератора и культуролога Джерарда Джонса «Сражая чудовищ». Описанная им сцена с детства знакома каждому англоязычному читателю: это схватка богатыря Беовульфа с чудовищем-людоедом Гренделем. «Какой ужасный образец для подражания! — смеется взрослый Джерард Джонс. — Он не делал ничего из того, чему герои должны учить наших детей: не обсуждал решений с группой, не думал в первую очередь о безопасности окружающих (настолько, что ради неожиданности нападения позволил сожрать друга-бойца рядом с собой), не пытался поймать монстра невредимым. Он хвастался, задирался, убивал». Но в то же время очень помогал справиться с детскими страхами, представляя себя в роли бесстрашного Беовульфа.
На смену героя эпоса по очереди приходили Кинг Конг, Бэтмен, Джеймс Бонд, Невероятный Халк… Они всякий раз были тем «спасательным кругом», за который хватается ребенок (а затем подросток), сталкиваясь с проблемами и не понимая, как поступить в сложной ситуации. Вот в этот момент ему и становится нужен герой-победитель, всегда готовый сражаться и ничего не боящийся.
Это происходит с каждым из нас. Но, став взрослыми, мы задвигаем куда-то на задворки личности воспоминания о том упоении, с которым мы играли в войну, и уж совсем не хотим вспоминать собственные страхи по поводу вещей, кажущихся нам, взрослым, сущей ерундой.
Нас вдруг начинает пугать доступность зрелищ такого рода для наших детей — и мы всегда готовы поверить, что это не они выбирают себе «ту сказку, которая нужна», а некие злые силы (например, киноиндустрия или индустрия видеоигр, заботящиеся, конечно же, только о своих прибылях) намеренно приучают их к жестоким и кровавым зрелищам.
И действительность вроде бы подтверждает наши страхи: после каждой трагической вспышки беспричинной жестокости пресса с готовностью сообщает нам, что убийца увлекался кровавыми боевиками или компьютерными играми-стрелялками.
Эрик Харрис и Дилан Клиболд, расстрелявшие в 1999 году в школе Коламбайн 12 своих товарищей и учителя, а затем покончившие с собой, увлекались игрой Doom. Коди Пози, застреливший в 2004-м отца, мачеху и сводную сестру, несколько месяцев перед этим играл в Grand Theft Auto, а Чо Сын Хи, в апреле этого года убивший 32 человека в Вирджинском политехническом институте, предпочитал Manhunt.
И общественное мнение даже и без помощи экспертов (в которых, впрочем, тоже никогда не бывает недостатка) воспринимает их стереотипно: насмотрелись — и пошли стрелять! Такое простое объяснение для многих кажется очевидным. И нужно обладать незаурядным интеллектуальным мужеством и непредвзятостью, чтобы публично спросить: а из чего, собственно, нам это понятно?
Кукла на рельсах

Но он ошибся: Джеймса так и не нашли ни в тот день, ни на следующий. А 14 февраля на железнодорожных путях прохожие заметили странную куклу. Подойдя ближе, люди пришли в ужас: то, что издалека казалось сломанным манекеном, было телом маленького мальчика, разрезанным пополам.
Очень скоро стало понятно, что это не несчастный случай, а потрясающее своей жестокостью убийство. Судмедэксперты обнаружили множество тяжелых травм: только по голове мальчика ударили больше 40 раз. Глаза Джеймса были залиты краской, с мальчика сняли штаны, трусы и ботинки, пенис расцарапали, а в анус и рот запихали батарейки. Поезд переехал ребенка, когда он уже был мертв.
Все жители Ливерпуля были потрясены случившемся. Правоохранители сбились с ног, допрашивая учеников, прогулявших школу в день трагедии. В полицию постоянно звонили люди, которым казалось, что они узнали подростков с камер. И один из таких звонков позволил найти виновников: 17 февраля женщина анонимно сообщила, что один из мальчишек похож на ее соседа Джона Венеблса. 18 февраля полицейские явились к Венеблсам домой, где застали не только Джона, но и его друга Роберта Томпсона. Оба мальчика, увидев людей в форме, впали в истерику, тем самым выдав себя.
Сначала следователи были уверены: мальчики не убийцы, их кто-то уговорил увести Джеймса из торгового центра. Однако скоро стало понятно: никаких взрослых маньяков в этой истории нет. Есть лишь два подростка, которые, шатаясь по магазинам, неожиданно решили, что лучшее развлечение — это убить какого-нибудь сопляка.
11 родительских поступков, после которых дети сбегут от них при первой же возможности
Родители не всегда задумываются над тем, что они говорят ребенку. Порой могут сорваться, устав на трудной и тяжелой работе, не придать значения страхам. В большинстве случаев все это делается в воспитательных целях и из лучших побуждений. Но, как мы знаем, одних добрых намерений не всегда бывает достаточно. И иногда родительское рвение или невнимательность могут здорово испортить ребенку жизнь.
1. Заставляют прибираться, даже когда в комнате и так довольно чисто
Безусловно, учить ребенка организовывать свое пространство необходимо. Но не стоит превращать это в наказание. Все мы, даже взрослые, инстинктивно стараемся избежать наказаний. А значит, ребенок просто не будет убираться. Ведь для него это станет чем-то негативным.
2. Контролируют каждую запятую в домашнем задании
Образование — штука важная, но исследования показывают, что даже старшим школьникам противопоказано сидеть над учебниками больше 2 часов. Оценки от этого лучше не станут, знаний не прибавится, а вот усталость, тревожность и нежелание учиться появятся непременно.
3. Разделяют занятия на мальчишечьи и девчоночьи
Еще совсем недавно розовый считался мужским цветом, а голубой — женским, так что, пожалуй, не стоит в таком важном деле, как воспитание, опираться на довольно спорные утверждения. Тем более что ученые все чаще говорят: разделение чего-либо, скажем, игрушек, по половому признаку пользы не несет
4. Позволяют младшим детям больше, чем старшим
Конечно, родители — живые люди со своими эмоциями и чувствами. Им не всегда удается одинаково любить всех своих детей, но все же не стоит так уж явно выделять фаворитов. Обиды и разочарования еще никому не приносили пользы.
5. Требуют от ребенка идеального результата во всем и всегда
Ребенок всегда стремится порадовать своих родителей, выполнить все, что от него требуют. А если это не выходит, то винит он во всем себя. Теряет уверенность, начинает думать, что он не достоин любви. Причем как родителей, так и всех остальных.
6. Забывают, что дети по-своему реагируют на взрослые проблемы
Взрослые — люди уже сформировавшиеся как физически, так и ментально. И эмоциональные потрясения им нипочем. А вот детская психика еще только формируется, и иногда даже маленького волнения, например ссоры между папой и мамой, достаточно, чтобы началась буря. Дети не понимают, что творится, и от этого чувствуют себя виноватыми во всем.
7. Лучше знают, что нужно ребенку
Всегда есть соблазн подсказать ребенку, что лучше сделать. Ведь взрослый опытнее и действительно во многих ситуациях оказывается прав. Но, увлекшись, можно лишить ребенка самостоятельности, права на собственный выбор. С возрастом это может вылиться в полное отсутствие самостоятельности.
8. Используют страшилки как метод воспитания
В мире и так полно поводов для беспокойства, не стоит добавлять еще один. Родители всегда остаются для ребенка якорем, островком спокойствия, первыми людьми, которым можно довериться и которые обязательно защитят. Пугая детей, мы сами разрушаем все эти важные связи.
9. Забывают о том, что у ребенка должно быть личное пространство
Психологи сходятся во мнении, что личное пространство ребенку, как и взрослому, просто необходимо. Маленький человек, лишенный собственного, закрытого от других мира, может быть подвержен депрессиям, неуверенности, недоверию, что ведет к серьезным проблемам в общении в будущем.
10. Чересчур опекают детей, забывая, что те должны набить собственные шишки
Порой родителям, видя трудности, с которыми сталкивается их ребенок, бывает трудно сдержаться и не помочь. Но нужно соблюдать баланс между заботой и желанием взять под контроль все в жизни ребенка.
11. Покупают вещи на вырост, забывая о чувствах детей и их вкусах
Одежда важна, потому что она отражает культуру, индивидуальность и предпочтения человека. Она влияет на наше настроение. А каким оно будет, если всю жизнь приходится носить нечто, сравнимое по пропорциям с картофельным мешком.
Последствия постоянных запретов
И всё-таки: к чему могут привести постоянные запреты? Что ждёт во взрослом возрасте человека, которому в детстве слишком часто и безосновательно говорили «нельзя»?
«Родительские запреты, как правило, остаются в голове на всю жизнь. Конечно, не в буквальном виде — они трансформируются в глубинные установки. Например, мама твердила: «Нельзя оставлять кашу на тарелке», а ребёнок потом живёт, старательно соблюдая правило: «Другие лучше знают, чего я хочу». Вариант «Ну доешь, пожалуйста» или стократно повторённое «А может, всё-таки поешь?», кстати, ничуть не гуманнее. Тут можно усвоить: «Насиловать меня чужими желаниями — это окей», «Моё «нет» ничего не значит», «Идти против ощущений тела, чтобы порадовать других — нормально». Эрик Берн писал по этому поводу: «Дрессированному животному не надо слышать голос хозяина: он всегда внутри».
Да, иногда эта граница проходит там, где заканчивается ресурс матери, и он имеет важность и ценность. Отсюда возникает, например: «Перестань лить воду на пол, я устала её вытирать
Запрещаю». От этого никуда не деться, но тут важна, скорее, пропорция.
Если у ребёнка непропорционально много запретов, то он начинает ощущать: мир чаще говорит мне «нет», чем «да». И в какой-то момент, взрослея, уменьшает количество попыток взять от вселенной то, что ему нравится. Занять комфортное место, попросить достойную оплату, выйти за границы системы и изобрести свою. Такое под силу только человеку с «живым, любопытным тоддлером внутри», который способен распознавать свои желания и творчески приспосабливаться к окружающей среде, чтобы эти желания исполнять», — говорит психолог Елена Садыкова.
Детский психолог Ксения Несютина добавляет:
«Как правило, такие люди:
- Излишне тревожны. Борются со своей тревогой с помощью сверхконтроля. Иногда почти так же, как это делали их родители.
- Пассивно-агрессивны. Ведут себя так, что злят всех вокруг: опаздывают, говорят неуместные шутки, подводят коллег или друзей. Всё из-за ярости, которая была на родителей в детстве, осталась сидеть внутри не может найти адекватного выхода.
- Депрессивны. Могут часто обвинять себя, заниматься самобичеванием. Бессознательно наказывать себя и лишать простых радостей или постоянно попадают в неприятные истории.
- Не имеют своих целей и желаний. Могут долго оставаться зависимыми от родителей. Или меняют родителей на другие созависимые отношения».
Не шалости, а любопытство
Запреты и ограничения в родительстве неизбежны. Невозможно позволять ребёнку абсолютно всё: это просто опасно для него и окружающих. Но зачастую оправданные фразы «не лезь к розетке» и «не включай плиту» существуют в соседстве с одёргиваниями по любому поводу и без. У многих мам и пап просто входит в привычку говорить своему ребёнку «нельзя» и «не лезь».
Представьте: полуторагодовалый малыш решил положить печеньки в кружку с водой и с удивлением наблюдает, как они там размокают. Наверняка вам захочется огорчённо крикнуть: «Так делать нельзя!» и прекратить это безобразие. Спокойствие. Это обычное природное детское любопытство, без которого невозможно развитие ребёнка.
Стоит ли такие вещи запрещать? Решать только вам, но психологи советуют как можно меньше ограничивать ребёнка в стремлении познавать мир. Это для вас — баловство, а для тоддлера — важный и интересный эксперимент. Мы не можем заглянуть в голову малыша, но предполагаем, что в момент такой шалости мыслительный процесс ребёнка работает очень активно: почему печенье становится мягким, а вода мутнеет? А ещё: почему маме всё это не нравится? Ведь это так интересно!

«Постоянные запреты, иногда лишённые смысла, делают ребёнка тревожным, стеснительным, замкнутым. Часто родители запрещают что-то из-за своей тревожности за жизнь и здоровье ребёнка: вдруг простудится, вдруг упадёт и разобьёт нос, вдруг он что-то испортит и придётся за это платить.
Эта постоянная неуверенность и тревожность родителя передаётся ребёнку. Он тоже начинает бояться всего вокруг. Боится спросить что-то у воспитателя: вдруг поругает. Опасается подойти к другим детям: вдруг не захотят играть. Боится строить свою башню из лего: вдруг упадёт. Понятно, что это сильно тормозит развитие ребёнка и может стать причиной будущих неврозов.
Есть и другой вариант: ребёнку приходится постоянно подавлять в себе злость, чтобы быть хорошим мальчиком или девочкой. Когда мы подавляем злость, мы подавляем и все остальные чувства. Из-за этого ребёнок становится апатичным, скучающим, ему ничего не интересно», — говорит детский психолог и многодетная мама Ксения Несютина.
Дети, которых не одёргивают без повода и дают больше свободы действий, обычно выделяются среди сверстников. Они весёлые, активные, творческие, креативные и разносторонне развитые. Как правило, такие дети легко знакомятся и заводят друзей, доверяют родителям и добиваются успехов в разных областях.
«Если тебя всегда ругают, и ты постоянно виноват в том, что зашёл на бордюр, толкнул камешек ногой, залез на горку, слез с горки, то невольно у ребёнка формируется ощущение — «всё из-за меня, я плохой». Такие дети живут с постоянным чувством вины и низкой самооценкой. В школе такой ребёнок, зная урок на пять, ответит на тройку, потому что считает, что большего он не заслужил. В будущем они выбирают отношения, где их используют и манипулируют», — говорит психолог.
Автомат своими зубами
«Это гора материала, но, как большинство гор, она устрашает только тогда, когда мы стоим в ее тени. Если забраться на ее вершину, она вознаграждает нас воодушевляющим новым видом», — пишет Джерард Джонс о работах, посвященных влиянию экранного насилия. Не найдя в них сколько-нибудь убедительных доказательств того, что экранное насилие может быть причиной реального, он обратился к тем, кто реально имеет дело с детьми: педагогам, школьным и детсадовским психологам и просто родителям.
И обнаружил, что многие из них (в том числе такие именитые, как, например, доктор Хелен Смит — судебный психолог, бывший руководитель общенационального добровольного интернет-надзора за юными преступниками и автор книги «Сердце в шрамах», посвященной психике малолетних убийц) думают так же, как и он, или, по крайней мере, очень сильно сомневаются в концепции «зрелища как причины насилия». Немало скептиков нашлось и в академической среде — именно они ставят контрольные опыты, указывают на методологическую некорректность, предлагают альтернативные объяснения и в конечном счете отделяют реальное знание от расхожих предубеждений.
Но обществу эта работа словно бы и не видна. Корпоративное мнение американского научного и педагогического сообщества выражается документами вроде «Совместного заявления о влиянии экранного насилия на детей», выпущенного в июле 2000 года Американской медицинской ассоциацией, Американской академией педиатрии, Американской психиатрической ассоциацией, Американской академией домашних врачей и Американской академией психиатрии детей и подростков и позднее поддержанного обеими палатами конгресса.
В нем прямо утверждается, что «жестокие зрелища могут привести к жестокости в реальной жизни», и эта позиция представлена как «консенсус сообщества публичного здравоохранения», хотя, как уже говорилось, многие виднейшие специалисты придерживаются совсем иных взглядов.
Правда, пока что усилия борцов с экранной жестокостью на государственном уровне особым успехом не увенчались: как правило, дело ограничивается декларациями, если же какой-нибудь продвинутый штат и принимает жесткие нормы, те долго не живут. Так, например, упомянутый в начале статьи «антиигровой» закон штата Калифорния (по иронии судьбы подписанный Арнольдом Шварценеггером — живым символом «крутых» зрелищ!) так и не вступил в силу: Ассоциация разработчиков развлекательного софта опротестовала его в суде, и в августе этого года федеральный судья Рональд Уайт признал его противоречащим Конституции США.
Однако связь между экранным и реальным насилием прочно утвердилась в общественном сознании, и многие родители и педагоги сами пытаются оградить своих питомцев от «жестоких» игр и зрелищ.
В упомянутой уже книге Джонса приведено немало историй о том, что получается из подобных благих начинаний. Например, в еврейском детском саду в Гринвич-Виллидже были безусловно запрещены все виды игрушечного оружия, а в праздничном рассказе об исходе евреев из Египта ни единым словом не упоминались казни египетские.
После рассказа детям, естественно, раздавали праздничную мацу — большие квадратные листы хрустящего хлебца. Один мальчик, взяв такой лист, внимательно посмотрел на него. Затем он зубами проделал довольно аккуратный прямоугольный вырез, откусил немного с другой стороны, повертел в руках, подравнял сзади… И вдруг принялся носиться по комнате, наводя на других детей получившееся подобие автомата и вопя «пу-пу-пу!», а те восторженно визжали и падали на пол «убитыми».
В другом случае в смертоносное оружие перевоплотилась кукла Барби: ее ноги стали рукояткой, руки – магазином, а из головы вылетали воображаемые пули. В третьем дети хотели превратить коробку от холодильника в осажденную крепость, но мать строго сказала: «Никаких игр со стрельбой! Почему бы вам не поиграть, что это космический корабль?!» Так они и сделали. И едва она уселась обратно в кресло, как услышала восторженные вопли: «Смотри! Пришельцы! Стреляй в них!»
Психолог и невропатолог Эрик Штайн считает: одна из задач растущей личности — научиться отличать фантазию от реальности, совершаемое в воображении — от совершаемого на самом деле. И важнейшим средством для этого служит игра, в том числе и с воображаемым оружием.